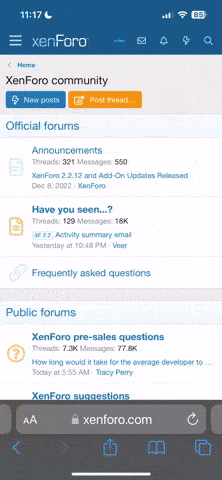На 1 июня 1941 года в Красной Армии числилось на вооружении 25 932 танков, САУ и танкеток, включая в это число даже переделанные в тягачи танкетки Т-271. Из них 13 981 танк находились в западных округах, остальные были разбросаны по всей остальной территории СССР. Танковые войска тоже затронуло явление упреждения всей армии в мобилизации и развертывании. Вся эта техника оказалась заложником изначально неблагоприятных стартовых условий ее использования в Приграничном сражении. Ввиду обвала обороны сразу на нескольких направлениях, мехкорпуса вынуждены были разбрасываться между несколькими целями. Ни о какой концентрации усилий на отражении ударов танковых групп немцев не было и речи. Еще одной проблемой было отставание советской военной мысли в области применения танковых войск. Касалось это в первую очередь организационных структур, в которые включались танки. Германская военная мысль еще на заре строительства танковых войск пришла к мысли о необходимости создания сбалансированной структуры, включающей в себя не только танки, но и моторизованную артиллерию, моторизованную пехоту и части боевого обеспечения. Теория была обкатана на практике в Польше и Франции и к 1941 г. у немцев была цельная концепция и организация для использования танковых войск в невиданных доселе масштабах.
Во Франции в 1940 г. была одна танковая группа, в СССР вторглись сразу четыре танковых группы. Это были объединения численностью 150-200 тыс. человек из нескольких моторизованных корпусов, усиленных моторизованной артиллерией. Танки в них были лишь одним из компонентов. У Германии к 22 июня имелось 5 154 танка (плюс 377 штурмовых орудий), из которых 3 658 (плюс 252 штурмовых орудия) находилось в войсках у границ СССР. Эти цифры не учитывают самоходной артиллерии БТРов.
В СССР же крупнейшим соединением были мехкорпуса численностью около 30 тыс. человек. При меньшей общей численности немецкие танки подпирались более сильной и многочисленной мотопехотой и артиллерией. Поэтому лобовое сравнение численности танкового парка СССР и Германии некорректно. На полях сражений ведут бой не толпы танков, выстроенные в каре, а организационные структуры, разбросанные в пространстве.
После прорыва обороны на границе немецкие танковые группы устремились в глубину построения войск особых округов. Командование особых округов (преобразованных в фронты) пыталось остановить вторжение противника контрударами мехкорпусов.
Следует сказать, что общая стратегия Красной армии летом 1941 г. была правильной и обоснованной. Советские командиры и командующие ориентировались на оперативные контрудары. Также активному противодействию, бомбардировке с воздуха и яростным контрударам подвергались захваченные немцами плацдармы на крупных реках. Во Франции в 1940 г. союзники не смогли организовать крупных оперативных контрударов даже в более выгодной обстановке. Особые округа, ставшие фронтами, нанесли летом 1941 г. целый ряд оперативных контрударов, замедливших продвижение противника. Более того, немцы стали осторожнее и были вынуждены постоянно думать о защите флангов.
Организация контрударов, разумеется, не всегда была на высоте. Войска вводились в бой по частям, с марша. Однако как показывает опыт войны и действия немцев в 1944-45 гг. это во многих случаях было неизбежностью. Свою роль в неудачах оборонительных и наступательных действиях Красной армии играло отсутствие достаточного боевого опыта и снижение качества подготовки командного состава ввиду быстрого роста советских вооруженных сил в предвоенный период. Если в августе 1939 г. Красная армия насчитывала 1,7 млн. человек, то в июне 1941 г. — 5,4 млн. человек. Стремительный карьерный рост сплошь и рядом превышал профессиональный уровень командиров частей и соединений. Многие младшие командиры были вчерашними рядовыми, сдавшими несложный экзамен на офицерский чин.
Также именно в ходе контрударов ярче всего проявили себя недостатки в организации мехкорпусов. Ведь требовалось совершить марш к вражескому плацдарму или на фланг вклинения вражеской ударной группировки и фактически с марша перейти в наступление. Артиллерии в мехкорпуса было мало, и из-за тихоходных тракторов в качестве основных тягачей она отставала от танков. Отсутствие артиллерийской подготовки атаки танков оставляло противотанковую оборону противника неподавленной. Мотопехоты также было недостаточно для эффективной поддержки удара танков. Атаки в неоптимальном режиме приводили к большим потерям бронетехники. Танки старых типов становились легкой жертвой для немецких противотанкистов. Командир 37-й танковой дивизии полковник Аникушкин позднее писал: «противнику было сравнительно легко и малыми силами организовывать противотанковую оборону, особенно против танков БТ-7». Это же было применимо к танкам Т-26. Пушки старых танков также имели весьма ограниченные возможности противодействия противника. Бронебойные снаряды калибром 45-мм оказались неспособны пробивать немецкую броню толщиной 50 мм с дистанции более 50 метров. Это делало практически неуязвимыми для них немецкие танки последних серий выпуска. В итоге контратаки и танковые бои приводили к стремительному избиению танков старых типов. Потеря десятков, а то и сотни машин за один бой не была чем-то из ряда вон выходящим.
Несколько более эффективными были танки новых типов, КВ и Т-34. Особые округа до войны являлись основным их получателем. К июню 1941 г. в войсках на западе насчитывалось 337 КВ-1, 132 КВ-2 и 832 Т-34. Ранее часто утверждалось, что КВ и Т-34 были неуязвимы для немецкой противотанковой артиллерии. Однако в действительности у немцев имелись средства для борьбы с ними. Новейшие 50-мм противотанковые пушки ПАК-38 пробивали броню новых советских танков, даже КВ, с помощью подкалиберных снарядов. При отсутствии или недостатке артиллерийской поддержки контрударов немцы поражали КВ и Т-34 зенитками и тяжелыми полевыми пушками. Тем не менее «тяжелые» и «тяжелейшие» танки регулярно фигурируют в немецких документах в качестве сдерживающего фактора. Так в журнале боевых действий группы армий «Юг» 29 июня указывалось, что продвижение немецких войск на Львов «сдерживалось контратаками, проводимыми при поддержке тяжелых танков».
В маневренном приграничном сражении также отрицательно сказались на ходе боевых действий «детские болезни» новых машин. Механическая надежность КВ и Т-34 выпуска 1940-41 гг. оставляла желать лучшего. Да и дизельный двигатель В-2 новых танков был еще несовершенен. В 1941 году паспортный ресурс всех В-2 не превышал 100 моточасов на стенде и в среднем 45–70 часов в танке. Это приводило к частому выходу из строя танков на маршах по техническим причинам.
Вместе с тем не следует думать, что контрудары советских мехкорпусов были вовсе бесполезными. Начальник автобронетанкового управления Северо-Западного фронта полковник Полубояров писал о действиях 12-го мехкорпуса: «Корпус, жертвуя собой, спасал пехоту от полного уничтожения и разгрома». Эти слова в той или иной мере применимы к действиям большинства других механизированных корпусов. Действия 12-го мехкорпуса и 2-й танковой дивизии пол Расейняем обеспечили отход 8-й армии за Западную Двину. Позднее упорное сопротивление армии в Эстонии привело к потерям времени группой армий «Север» и способствовало удержанию Ленинграда. Контрудары мехкорпусов Юго-Западного фронта на Украине привели к медленному и осторожному продвижению вперед 1-й танковой группы Э. фон Клейста.
Здесь будет уместно процитировать полковника Дэвида М. Гланца, написавшего о советских контрударах 1941 г. такие слова: «С другой стороны, непрерывные и иррациональные, зачастую бесполезные советские наступления неощутимо разрушали боевую силу немецких войск, вызвали потери, которые побудили Гитлера изменить его стратегию и в конечном счете создали условия для поражения вермахта под Москвой. Те советские офицеры и солдаты, кто пережил их (наступлений) серьезное и дорогостоящее крещение огнем, в конечном счете использовали свое быстрое образование для нанесения ужасных потерь своим мучителям»2.
Однако в ближней перспективе контрудары чаще всего лишь оттягивали окружения. Если на Украине и в Прибалтике в июне 1941 г. обошлось без крупных «котлов», то в Белоруссии действия двух танковых групп привели к окружению главных сил Западного фронта в районе Белостока и Волковыска. Само по себе окружение не привело к прекращению сопротивления. Окруженцы упорно пытались пробиться к своим. Даже в последние дни существования «котла» советские войска продолжали оказывать упорное сопротивление. В оперативной сводке группы армий «Центр» за 30 июня указывалось:
«Захвачено много трофеев, различное оружие (главным образом арт. орудия), большое количество различной техники и много лошадей. Русские несут громадные потери убитыми, пленных мало»3.
Только после многократных попыток пробиться из «котла» и израсходованию запасов горючего и боеприпасов сопротивление начинало снижаться и количество пленных возрастало. Здесь еще надо отметить, что на тогдашней войне далеко не каждый человек в военной форме вел бой с оружием в руках на передовой. В стрелковой дивизии таких — примерно половина. В большое окружение же попадают артиллеристы, связисты, тыловики и военные строители. Их тактическая выучка была слабее, чем у бойцов первой линии и они с большей вероятностью становились военнопленными. Внушительную колонну для кинохроники из коноводов, связистов и строителей можно было запросто набрать с одного корпуса. В окружение же попадали целые армии.
Так или иначе, шансов остановить противника у войск приграничных округов попросту не было. Соотношение сил между полностью развернутыми и отмобилизованными войсками трех групп армий и недоразвернутыми и неотмобилизованными войсками трех особых округов обрекало Красную армию на поражение. Немцами были перемолоты сначала армии у границы, затем так называемые «глубинные» корпуса в 100-150 км от нее. Это заставило потрепанные войска трех фронтов отходить на восток, на старую границу и даже за нее. Самым серьезным последствием отхода была потеря подбитых и вышедших из строя танков и автомашин. В иных условиях их можно было бы восстановить, а так пришлось бросать.
Строго говоря, ситуация была симметричной. Так, например, на 5 июля 1941 г. в ремонтных мастерских 1-й танковой группы находилось 200 танков всех типов4. Причем в ремонте боевые машины могли находиться неделями. Если бы немцы потерпели поражение, то большая часть из этих машин была бы безвозвратно потеряна. Точно так же танки Pz.III и Pz.IV остались бы украшать обочины дорог. Собственно именно это происходило в 1943-45 гг., когда на полях сражений оставались брошенными при отступлении новейшие «Тигры» и «Пантеры».
Следует подчеркнуть, что не большие потери техники сами по себе стали причиной неудач Красной армии в Приграничном сражении. Поражение войск особых округов, рухнувший фронт обороны общевойсковых армий, привели к потере ремонтного фонда и, как следствие, катастрофическому снижению потенциала механизированных соединений Красной армии.
На 1 июня 1941 года в Красной Армии числилось на вооружении 25 932 танков, САУ и танкеток, включая в это число даже переделанные в тягачи танкетки Т-271. Из них 13 981 танк находились в западных округах, остальные были разбросаны по всей остальной территории СССР. Танковые войска тоже затронуло явление упреждения всей армии в мобилизации и развертывании. Вся эта техника оказалась заложником изначально неблагоприятных стартовых условий ее использования в Приграничном сражении. Ввиду обвала обороны сразу на нескольких направлениях, мехкорпуса вынуждены были разбрасываться между несколькими целями. Ни о какой концентрации усилий на отражении ударов танковых групп немцев не было и речи. Еще одной проблемой было отставание советской военной мысли в области применения танковых войск. Касалось это в первую очередь организационных структур, в которые включались танки. Германская военная мысль еще на заре строительства танковых войск пришла к мысли о необходимости создания сбалансированной структуры, включающей в себя не только танки, но и моторизованную артиллерию, моторизованную пехоту и части боевого обеспечения. Теория была обкатана на практике в Польше и Франции и к 1941 г. у немцев была цельная концепция и организация для использования танковых войск в невиданных доселе масштабах.
Во Франции в 1940 г. была одна танковая группа, в СССР вторглись сразу четыре танковых группы. Это были объединения численностью 150-200 тыс. человек из нескольких моторизованных корпусов, усиленных моторизованной артиллерией. Танки в них были лишь одним из компонентов. У Германии к 22 июня имелось 5 154 танка (плюс 377 штурмовых орудий), из которых 3 658 (плюс 252 штурмовых орудия) находилось в войсках у границ СССР. Эти цифры не учитывают самоходной артиллерии БТРов.
В СССР же крупнейшим соединением были мехкорпуса численностью около 30 тыс. человек. При меньшей общей численности немецкие танки подпирались более сильной и многочисленной мотопехотой и артиллерией. Поэтому лобовое сравнение численности танкового парка СССР и Германии некорректно. На полях сражений ведут бой не толпы танков, выстроенные в каре, а организационные структуры, разбросанные в пространстве.
После прорыва обороны на границе немецкие танковые группы устремились в глубину построения войск особых округов. Командование особых округов (преобразованных в фронты) пыталось остановить вторжение противника контрударами мехкорпусов.
Следует сказать, что общая стратегия Красной армии летом 1941 г. была правильной и обоснованной. Советские командиры и командующие ориентировались на оперативные контрудары. Также активному противодействию, бомбардировке с воздуха и яростным контрударам подвергались захваченные немцами плацдармы на крупных реках. Во Франции в 1940 г. союзники не смогли организовать крупных оперативных контрударов даже в более выгодной обстановке. Особые округа, ставшие фронтами, нанесли летом 1941 г. целый ряд оперативных контрударов, замедливших продвижение противника. Более того, немцы стали осторожнее и были вынуждены постоянно думать о защите флангов.
Организация контрударов, разумеется, не всегда была на высоте. Войска вводились в бой по частям, с марша. Однако как показывает опыт войны и действия немцев в 1944-45 гг. это во многих случаях было неизбежностью. Свою роль в неудачах оборонительных и наступательных действиях Красной армии играло отсутствие достаточного боевого опыта и снижение качества подготовки командного состава ввиду быстрого роста советских вооруженных сил в предвоенный период. Если в августе 1939 г. Красная армия насчитывала 1,7 млн. человек, то в июне 1941 г. — 5,4 млн. человек. Стремительный карьерный рост сплошь и рядом превышал профессиональный уровень командиров частей и соединений. Многие младшие командиры были вчерашними рядовыми, сдавшими несложный экзамен на офицерский чин.
Также именно в ходе контрударов ярче всего проявили себя недостатки в организации мехкорпусов. Ведь требовалось совершить марш к вражескому плацдарму или на фланг вклинения вражеской ударной группировки и фактически с марша перейти в наступление. Артиллерии в мехкорпуса было мало, и из-за тихоходных тракторов в качестве основных тягачей она отставала от танков. Отсутствие артиллерийской подготовки атаки танков оставляло противотанковую оборону противника неподавленной. Мотопехоты также было недостаточно для эффективной поддержки удара танков. Атаки в неоптимальном режиме приводили к большим потерям бронетехники. Танки старых типов становились легкой жертвой для немецких противотанкистов. Командир 37-й танковой дивизии полковник Аникушкин позднее писал: «противнику было сравнительно легко и малыми силами организовывать противотанковую оборону, особенно против танков БТ-7». Это же было применимо к танкам Т-26. Пушки старых танков также имели весьма ограниченные возможности противодействия противника. Бронебойные снаряды калибром 45-мм оказались неспособны пробивать немецкую броню толщиной 50 мм с дистанции более 50 метров. Это делало практически неуязвимыми для них немецкие танки последних серий выпуска. В итоге контратаки и танковые бои приводили к стремительному избиению танков старых типов. Потеря десятков, а то и сотни машин за один бой не была чем-то из ряда вон выходящим.
Несколько более эффективными были танки новых типов, КВ и Т-34. Особые округа до войны являлись основным их получателем. К июню 1941 г. в войсках на западе насчитывалось 337 КВ-1, 132 КВ-2 и 832 Т-34. Ранее часто утверждалось, что КВ и Т-34 были неуязвимы для немецкой противотанковой артиллерии. Однако в действительности у немцев имелись средства для борьбы с ними. Новейшие 50-мм противотанковые пушки ПАК-38 пробивали броню новых советских танков, даже КВ, с помощью подкалиберных снарядов. При отсутствии или недостатке артиллерийской поддержки контрударов немцы поражали КВ и Т-34 зенитками и тяжелыми полевыми пушками. Тем не менее «тяжелые» и «тяжелейшие» танки регулярно фигурируют в немецких документах в качестве сдерживающего фактора. Так в журнале боевых действий группы армий «Юг» 29 июня указывалось, что продвижение немецких войск на Львов «сдерживалось контратаками, проводимыми при поддержке тяжелых танков».
В маневренном приграничном сражении также отрицательно сказались на ходе боевых действий «детские болезни» новых машин. Механическая надежность КВ и Т-34 выпуска 1940-41 гг. оставляла желать лучшего. Да и дизельный двигатель В-2 новых танков был еще несовершенен. В 1941 году паспортный ресурс всех В-2 не превышал 100 моточасов на стенде и в среднем 45–70 часов в танке. Это приводило к частому выходу из строя танков на маршах по техническим причинам.
Вместе с тем не следует думать, что контрудары советских мехкорпусов были вовсе бесполезными. Начальник автобронетанкового управления Северо-Западного фронта полковник Полубояров писал о действиях 12-го мехкорпуса: «Корпус, жертвуя собой, спасал пехоту от полного уничтожения и разгрома». Эти слова в той или иной мере применимы к действиям большинства других механизированных корпусов. Действия 12-го мехкорпуса и 2-й танковой дивизии пол Расейняем обеспечили отход 8-й армии за Западную Двину. Позднее упорное сопротивление армии в Эстонии привело к потерям времени группой армий «Север» и способствовало удержанию Ленинграда. Контрудары мехкорпусов Юго-Западного фронта на Украине привели к медленному и осторожному продвижению вперед 1-й танковой группы Э. фон Клейста.
Здесь будет уместно процитировать полковника Дэвида М. Гланца, написавшего о советских контрударах 1941 г. такие слова: «С другой стороны, непрерывные и иррациональные, зачастую бесполезные советские наступления неощутимо разрушали боевую силу немецких войск, вызвали потери, которые побудили Гитлера изменить его стратегию и в конечном счете создали условия для поражения вермахта под Москвой. Те советские офицеры и солдаты, кто пережил их (наступлений) серьезное и дорогостоящее крещение огнем, в конечном счете использовали свое быстрое образование для нанесения ужасных потерь своим мучителям»2.
Однако в ближней перспективе контрудары чаще всего лишь оттягивали окружения. Если на Украине и в Прибалтике в июне 1941 г. обошлось без крупных «котлов», то в Белоруссии действия двух танковых групп привели к окружению главных сил Западного фронта в районе Белостока и Волковыска. Само по себе окружение не привело к прекращению сопротивления. Окруженцы упорно пытались пробиться к своим. Даже в последние дни существования «котла» советские войска продолжали оказывать упорное сопротивление. В оперативной сводке группы армий «Центр» за 30 июня указывалось:
«Захвачено много трофеев, различное оружие (главным образом арт. орудия), большое количество различной техники и много лошадей. Русские несут громадные потери убитыми, пленных мало»3.
Только после многократных попыток пробиться из «котла» и израсходованию запасов горючего и боеприпасов сопротивление начинало снижаться и количество пленных возрастало. Здесь еще надо отметить, что на тогдашней войне далеко не каждый человек в военной форме вел бой с оружием в руках на передовой. В стрелковой дивизии таких — примерно половина. В большое окружение же попадают артиллеристы, связисты, тыловики и военные строители. Их тактическая выучка была слабее, чем у бойцов первой линии и они с большей вероятностью становились военнопленными. Внушительную колонну для кинохроники из коноводов, связистов и строителей можно было запросто набрать с одного корпуса. В окружение же попадали целые армии.
Так или иначе, шансов остановить противника у войск приграничных округов попросту не было. Соотношение сил между полностью развернутыми и отмобилизованными войсками трех групп армий и недоразвернутыми и неотмобилизованными войсками трех особых округов обрекало Красную армию на поражение. Немцами были перемолоты сначала армии у границы, затем так называемые «глубинные» корпуса в 100-150 км от нее. Это заставило потрепанные войска трех фронтов отходить на восток, на старую границу и даже за нее. Самым серьезным последствием отхода была потеря подбитых и вышедших из строя танков и автомашин. В иных условиях их можно было бы восстановить, а так пришлось бросать.
Строго говоря, ситуация была симметричной. Так, например, на 5 июля 1941 г. в ремонтных мастерских 1-й танковой группы находилось 200 танков всех типов4. Причем в ремонте боевые машины могли находиться неделями. Если бы немцы потерпели поражение, то большая часть из этих машин была бы безвозвратно потеряна. Точно так же танки Pz.III и Pz.IV остались бы украшать обочины дорог. Собственно именно это происходило в 1943-45 гг., когда на полях сражений оставались брошенными при отступлении новейшие «Тигры» и «Пантеры».
Следует подчеркнуть, что не большие потери техники сами по себе стали причиной неудач Красной армии в Приграничном сражении. Поражение войск особых округов, рухнувший фронт обороны общевойсковых армий, привели к потере ремонтного фонда и, как следствие, катастрофическому снижению потенциала механизированных соединений Красной армии.