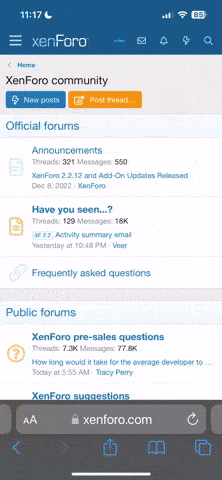Статус:
Offline
Реєстрація: 19.08.2005
Повідом.: 18300
Реєстрація: 19.08.2005
Повідом.: 18300
Сказки на всякий случай..
НИКОМУ НЕИЗВЕСТНАЯ БУКАШКА ИЗУМРУДНОГО ЦВЕТА
В этом сезоне в лесу был необыкновенно популярен Орешник: все просто с ума от него сходили. А вот почему – трудно сказать… Да в таких вещах и вообще-то ничего не поймёшь: в одно прекрасное утро вдруг становится ни с того ни с сего необыкновенно популярным какой-нибудь орешник… поглядишь на него – орешник орешником, а вот надо же такому быть: необыкновенно популярен! И хоть ты тут лоб расшиби, а он стоит посреди леса – весь из себя необыкновенно популярный – и дает интервью каким-нибудь журналистам. А на следующее утро во всех газетах можно прочитать:
Орешник считает…
Орешник полагает…
Орешник сказал…
Вот Орешник и сказал:
– В последнее время около меня вьётся столько всякой дряни!
И все, кто в последнее время вились вокруг Орешника, ужасно обиделись. Понятно, на что: ведь именно они – те, кто вились около него в последнее время, – сделали его таким необыкновенно популярным. Но об этом Орешник как-то не подумал, а просто сказал не подумавши. Сказал – и принялся молчать что было сил.
Между тем все, кто вились вокруг него в последнее время, тоже принялись молчать, размышляя о том, имел ли он в виду каждого из них или только некоторых. И лишь одна Никому Неизвестная Букашка Изумрудного Цвета заметила вслух:
– Пожалуй, действительно не стоит нам тут виться. Чем больше мы вьёмся, тем популярнее он становится.
– Кто это там даёт глупые советы? – усталым от популярности голосом спросил Орешник, даже не потрудившись бросить взгляд на Никому Неизвестную Букашку Изумрудного Цвета.
– Это я, Никому Неизвестная Букашка Изумрудного Цвета, – был ответ.
– А Вы, вообще-то, существуете? – с подозрением спросил Орешник.
– Как мне понимать Ваш вопрос? – озадачилась Никому Неизвестная Букашка Изумрудного Цвета. – Если бы меня не существовало, со мной было бы невозможно разговаривать…
– Для меня нет ничего невозможного! – сразу же поставил её на место Орешник. – А вот что касается Вашего существования… так тут всё очень небесспорно. Если Вы, например, меня спросите о том, существуете ли Вы, то я отвечу со всей определённостью: нет, Вы не существуете.
– Это странно слышать… – призналась Никому Неизвестная Букашка Изумрудного Цвета, явно существовавшая! – А почему, собственно, Вы так ответите со всей определенностью?
– Да потому, – зевнул Орешник, – что существуют только те, о ком говорят. Вот взять хоть меня… – я действительно существую: про меня все кругом только и говорят. Я необыкновенно популярен. Почитайте газеты! Что же касается тех, о ком не говорят, то они и не существуют.
– Я этого не знала… – огорчилась Никому Неизвестная Букашка Изумрудного Цвета и немедленно впала в задумчивость.
– У Вас и имя такое, – как ни в чем не бывало продолжал Орешник, – Никому Неизвестная Букашка Изумрудного Цвета. Ни-ко-му Не-из-вест-на-я… – так ведь без причин не назовут!
– Не назовут, – вздохнула Никому Неизвестная Букашка Изумрудного Цвета.
Некоторое время она обиженно сопела, но потом воскликнула:
– А зачем тогда меня называют «Изумрудного Цвета»? Если меня так называют, значит, меня кто-то видел! И, стало быть, я существую!
– Ну, как Вам сказать… – Голос у Орешника был уже таким утомлённым, словно он только что вернулся с тяжёлой работы. – Это надо просто выбросить из головы. Да и Вас тоже надо просто выбросить из головы.
Тут Орешник тряхнул головой и выбросил из неё Никому Неизвестную Букашку Изумрудного Цвета, а та совсем отчаялась и расплакалась – да так горько, что Орешник скривился от этой горечи.
Но едва только она расплакалась, как поблизости от неё послышался голос Лесника:
– Кто это там так горько плачет?
– Это я, Никому Неизвестная Букашка Изумрудного Цвета, – беспрестанно всхлипывая, отозвалась та.
– И о чём же Вы плачете? – спросил Лесник.
– Меня не существует, – призналась она. – Меня не существует, потому что обо мне никто не говорит… И меня надо просто вы бросить из головы.
– Какая чепуха! – сказал Лесник и погладил Никому Неизвестную Букашку Изумрудного Цвета по спинке. – Все, кто плачут, – существуют. И никого из тех, кто плачет, нельзя выбрасывать из головы.
Тут он достал из кармана дневник и шариковую ручку и записал под сегодняшним числом:
«Четырнадцать часов двадцать минут. Никому Неизвестная Букашка Изумрудного Цвета плакала вблизи Орешника. Была утешена мною».
А потом помахал Никому Неизвестной Букашке Изумрудного Цвета рукой и решительными шагами отправился дальше.
А Никому Неизвестная Букашка Изумрудного Цвета подлетела к Орешнику и доложила:
– Я плачу– значит, я существую! Так сказал Лесник.
Произнеся это, она вытерла слёзы и радостно полетела существовать дальше.
А Орешник пожал плечами и подумал о том, сколько всё-таки всякой дряни вьётся вокруг него в последнее время. И опять стал стоять посреди леса – весь из себя необыкновенно популярный. Правда, несколько минут спустя он – просто так, без всякой цели – попытался заплакать… но у него почему-то ничего не получилось.
(c) Евгений Клюев
НИКОМУ НЕИЗВЕСТНАЯ БУКАШКА ИЗУМРУДНОГО ЦВЕТА
В этом сезоне в лесу был необыкновенно популярен Орешник: все просто с ума от него сходили. А вот почему – трудно сказать… Да в таких вещах и вообще-то ничего не поймёшь: в одно прекрасное утро вдруг становится ни с того ни с сего необыкновенно популярным какой-нибудь орешник… поглядишь на него – орешник орешником, а вот надо же такому быть: необыкновенно популярен! И хоть ты тут лоб расшиби, а он стоит посреди леса – весь из себя необыкновенно популярный – и дает интервью каким-нибудь журналистам. А на следующее утро во всех газетах можно прочитать:
Орешник считает…
Орешник полагает…
Орешник сказал…
Вот Орешник и сказал:
– В последнее время около меня вьётся столько всякой дряни!
И все, кто в последнее время вились вокруг Орешника, ужасно обиделись. Понятно, на что: ведь именно они – те, кто вились около него в последнее время, – сделали его таким необыкновенно популярным. Но об этом Орешник как-то не подумал, а просто сказал не подумавши. Сказал – и принялся молчать что было сил.
Между тем все, кто вились вокруг него в последнее время, тоже принялись молчать, размышляя о том, имел ли он в виду каждого из них или только некоторых. И лишь одна Никому Неизвестная Букашка Изумрудного Цвета заметила вслух:
– Пожалуй, действительно не стоит нам тут виться. Чем больше мы вьёмся, тем популярнее он становится.
– Кто это там даёт глупые советы? – усталым от популярности голосом спросил Орешник, даже не потрудившись бросить взгляд на Никому Неизвестную Букашку Изумрудного Цвета.
– Это я, Никому Неизвестная Букашка Изумрудного Цвета, – был ответ.
– А Вы, вообще-то, существуете? – с подозрением спросил Орешник.
– Как мне понимать Ваш вопрос? – озадачилась Никому Неизвестная Букашка Изумрудного Цвета. – Если бы меня не существовало, со мной было бы невозможно разговаривать…
– Для меня нет ничего невозможного! – сразу же поставил её на место Орешник. – А вот что касается Вашего существования… так тут всё очень небесспорно. Если Вы, например, меня спросите о том, существуете ли Вы, то я отвечу со всей определённостью: нет, Вы не существуете.
– Это странно слышать… – призналась Никому Неизвестная Букашка Изумрудного Цвета, явно существовавшая! – А почему, собственно, Вы так ответите со всей определенностью?
– Да потому, – зевнул Орешник, – что существуют только те, о ком говорят. Вот взять хоть меня… – я действительно существую: про меня все кругом только и говорят. Я необыкновенно популярен. Почитайте газеты! Что же касается тех, о ком не говорят, то они и не существуют.
– Я этого не знала… – огорчилась Никому Неизвестная Букашка Изумрудного Цвета и немедленно впала в задумчивость.
– У Вас и имя такое, – как ни в чем не бывало продолжал Орешник, – Никому Неизвестная Букашка Изумрудного Цвета. Ни-ко-му Не-из-вест-на-я… – так ведь без причин не назовут!
– Не назовут, – вздохнула Никому Неизвестная Букашка Изумрудного Цвета.
Некоторое время она обиженно сопела, но потом воскликнула:
– А зачем тогда меня называют «Изумрудного Цвета»? Если меня так называют, значит, меня кто-то видел! И, стало быть, я существую!
– Ну, как Вам сказать… – Голос у Орешника был уже таким утомлённым, словно он только что вернулся с тяжёлой работы. – Это надо просто выбросить из головы. Да и Вас тоже надо просто выбросить из головы.
Тут Орешник тряхнул головой и выбросил из неё Никому Неизвестную Букашку Изумрудного Цвета, а та совсем отчаялась и расплакалась – да так горько, что Орешник скривился от этой горечи.
Но едва только она расплакалась, как поблизости от неё послышался голос Лесника:
– Кто это там так горько плачет?
– Это я, Никому Неизвестная Букашка Изумрудного Цвета, – беспрестанно всхлипывая, отозвалась та.
– И о чём же Вы плачете? – спросил Лесник.
– Меня не существует, – призналась она. – Меня не существует, потому что обо мне никто не говорит… И меня надо просто вы бросить из головы.
– Какая чепуха! – сказал Лесник и погладил Никому Неизвестную Букашку Изумрудного Цвета по спинке. – Все, кто плачут, – существуют. И никого из тех, кто плачет, нельзя выбрасывать из головы.
Тут он достал из кармана дневник и шариковую ручку и записал под сегодняшним числом:
«Четырнадцать часов двадцать минут. Никому Неизвестная Букашка Изумрудного Цвета плакала вблизи Орешника. Была утешена мною».
А потом помахал Никому Неизвестной Букашке Изумрудного Цвета рукой и решительными шагами отправился дальше.
А Никому Неизвестная Букашка Изумрудного Цвета подлетела к Орешнику и доложила:
– Я плачу– значит, я существую! Так сказал Лесник.
Произнеся это, она вытерла слёзы и радостно полетела существовать дальше.
А Орешник пожал плечами и подумал о том, сколько всё-таки всякой дряни вьётся вокруг него в последнее время. И опять стал стоять посреди леса – весь из себя необыкновенно популярный. Правда, несколько минут спустя он – просто так, без всякой цели – попытался заплакать… но у него почему-то ничего не получилось.
(c) Евгений Клюев