С падением Константинополя и всей Восточной Римской империи занчение Константинопольской Церкви среди ее паствы значительно возросла. Султан Мехмед II, завоевавший Константинополь, не только оставил Константинопольским патриархам церковную власть над православным населением новообразованной Османской империи, но наделил их также политической властью, какой они не имели прежде. Среди мусульман различие между политической и религиозной властью едва выражено, и эти две власти, как правило, совмещаются в одном лице, ввиду чего султан не мог стать полноценным политическим лидером православных т.к. не мог быть их религиозным главой. Компромисс был найден в том, что Константинопольский патриарх был определен "главой народа" (миллет баши) православных (именуемых ромеями, рум), и получил также немалую долю политической власти над ним. При османах Константинопольский Патриархат достиг значительного территориального расширения за счет поглощения ранее автокефальных Церквей в пределах империи: к концу XVIII века в его ведение входила вся Малая Азия и весь Балканский полуостров кроме Черногории. Древние Церкви в пределах империи - Александрийская, Антиохийская, Иерусалимская, Кипрская, - хотя и не были упразднены, но оказались в зависимом положении от Константинопольской.
Патриарх стал во многом посредником и проводником воли султана, но также нес ответственность за нестроения, если такие возникали среди подчиненного ему народа. Османское правительство, установив высокий налог за вступление на патриарший престол, очень часто смещало патриархов, а потом нередко вновь возводило на престол смещенных, каждый раз взмиая налог. Для уплаты этого налога патриархи часто взимали деньги с митрополитов, а те - с подведомственного им клира, что наложило глубокий отпечаток на порядок жизни Патриархата.

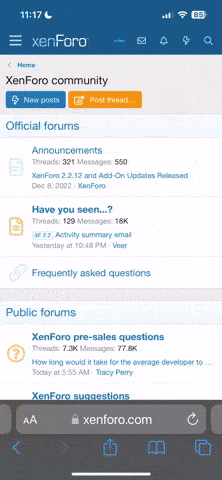

 ) Кто самый ушлый,занесут кому надо и вуаля
) Кто самый ушлый,занесут кому надо и вуаля 

