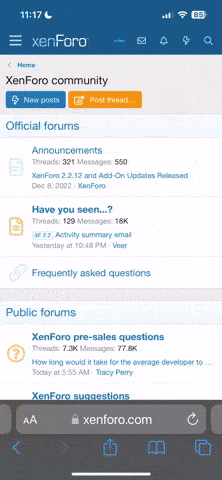Статус:
Offline
Реєстрація: 19.08.2005
Повідом.: 18300
Реєстрація: 19.08.2005
Повідом.: 18300
ПУШКИНУ И НЕ СНИЛАСЬ ТА СВОБОДА, КОТОРАЯ БЫЛА У БАЙРОНА. 220 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МЯТЕ
Посилання видалено
"Женщина - это единственный подарок, который сам себя упаковывает", - сказал когда-то Джордж Гордон Байрон. И женщины с удовольствием дарили себя в упаковке и без нее самому знаменитому из всех лордов.
Преодолевая природную хромоту, он сумел убедить окружающих в своей неслыханной красоте. Это от него пошла мода на романтическую бледность и худобу, хотя по природе он был склонен к тучности и сутулился, как многие английские аристократы. Над своим внешним обликом лорд трудился как скульптор. Сидел на диете, купался в ледяной воде, изнурял тело спортом и, конечно, пускался в дальние плавания. Типичная биография молодого человека, живущего в островном государстве. Всех тянуло вдаль, за моря. В 21 год уплыл сначала в Испанию, потом в Албанию, где подружился с турецким властителем Али-пашой. А затем проследовал в город своей судьбы, на родину красоты, которой всю жизнь поклонялся, - в Афины.
Греция была точкой схождения интересов двух империй: Британии и России. Все хотели освобождения христианской Греции от турецкого ига. Правда, в те времена многие турецкие обычаи вошли в греческий обиход, в том числе курение опиума и потребление гашиша. Достаточно вспомнить графа Монте-Кристо, находившего утешение в наркотическом дурмане. Но еще большим наркотиком стал только что открытый субъективный идеализм - или романтизм, которым упивался и сам Байрон, и все его окружение. Романтизм как полная внутренняя свобода, снятие всех оков.
Молодой Байрон влюбился в гречанку и воспел ее в стихах, называя не иначе как Афинской девой. Так древние греки именовали богиню Афину Палладу, ставшую символом все той же свободы. Он вернется в Англию через два года с автобиографической поэмой "Паломничество Чайльд Гарольда", которая принесет поэту всемирную и вечную славу. Прелесть этой поэмы мы чувствуем по отблеску ее в романе Пушкина "Евгений Онегин". Романтический, скучающий, ни в чем и нигде не находящий пристанища скиталец вышел на мировую арену. Чайльд Гарольд - первый космополит, человек мира, свободный от всех оков.
И сам Байрон, и его герой, и его гениальный друг поэт Шелли, и его великие последователи в России - Пушкин и Лермонтов - прежде всего свободные люди и, конечно, граждане мира. Онегин подражает Байрону не только внешне. Он действительно для государства неуловим. Все наши Онегины и Печорины - дети Чайльд Гарольда. Впрочем, Пушкину и не снилась та свобода, которая была у Байрона. Пушкин не мог без разрешения уехать из Петербурга, Байрон свободно путешествовал по всему миру. Пушкин мог делиться своими политическими идеями только с друзьями, Байрон свободно выступал в парламенте...
В Байрона влюбляется замужняя леди Каролина Лэм. Ни Байрон, ни Каролина не скрывают свою любовную близость, всячески ее демонстрируют. Общество бурлит, но ничего не может поделать с мятежным лордом. И вдруг - как гром с ясного неба - Лондон облетела новая весть: Байрон женится на родственнице своей возлюбленной. Брак с Анабеллой Милбенк заключен по всем правилам и скреплен обрядом венчания, что тоже стало сенсацией. Одновременно выходит цикл восточных поэм, где поэт явно намекает на свою связь с контрабандистами и пиратами, что, по всей видимости, не является романтической выдумкой. Байрон снабжает оружием восставших греков, а где оружие, там, ясное дело, и наркотики. А где наркотики, там... какие уж семейные узы.
Узнав о любовной связи Байрона с его же единокровной сестрой и справедливо заподозрив мужа в гомосексуальных играх, жена Байрона, мать его дочери, подает на развод. К тому же она потрясена необычными способами любви, которых добивался от нее великий поэт, пират, контрабандист, революционер, лорд и герой Джордж Гордон Байрон...
Известно, что при обильном потреблении наркотиков экстатические состояния сменяются тяжелейшими депрессиями. Последняя, четвертая часть "Чайльд Гарольда" - гимн тоске и отчаянию. Не менее трагична богоборческая драма "Манфред". Байрон разочаровался во всем: в Боге, в любви, в политике, в жизни как таковой.
Изменив свободолюбивой Греции, он уезжает в Италию, где осваивает все стадии донжуанства. Теперь это не античный красавец с греческим профилем, а толстеющий и лысеющий человек. Но замужняя графиня Тереза Гвиччиолли полюбила его и таким. В эту любовную интригу в качестве арбитра вовлечен даже папа римский. И конечно же и здесь Байрон включен в политическую игру. Он всячески поддерживает карбонариев в их борьбе за независимость Италии от Австрии. Заговор подавлен, и Байрон находит прибежище у своего друга и единомышленника Шелли. Друзья издают журнал "Либерал". Но Европа не созрела для либерализма. Журнал приказал долго жить.
А в личной жизни образуется магический четырехугольник: Перси Биш Шелли, его жена Мэри Шелли, Байрон и его фактическая жена Тереза. От этого "брака" родился впоследствии роман Мэри Шелли "Франкенштейн". Неожиданная гибель поэта Шелли в морских волнах разбивает демоническую идиллию. Байрон очнулся от дурмана и наконец-то закончил поэтическую феерию "Дон Жуан". Разумеется, герой испытал все то, что испытывал Байрон, - любовь в гареме, пресыщение, любовную идиллию на острове. Но литература вскоре надоедает Байрону, и он вслед за своим Дон Жуаном устремляется в самую горячую точку Европы, в любимую Грецию. Обратно в молодость.
Греки встречают великого лорда как полководца. Байрон на свои деньги снаряжает греческий флот, снабжает повстанцев и даже командует отрядом, но внезапная лихорадка обрывает его жизнь в 1824 году. Традиционный предел жизни поэтов - на рубеже 37 лет.
"Вольности поэтом" назовет его Пушкин. Но к Байрону это вряд ли применимо. Он никогда не был в рабстве и в вольности не нуждался. Он хотел не вольности, а свободы - для себя и для всего мира. Первую часть этого страстного желания он осуществил полностью и до конца.
Посилання видалено
Посилання видалено
"Женщина - это единственный подарок, который сам себя упаковывает", - сказал когда-то Джордж Гордон Байрон. И женщины с удовольствием дарили себя в упаковке и без нее самому знаменитому из всех лордов.
Преодолевая природную хромоту, он сумел убедить окружающих в своей неслыханной красоте. Это от него пошла мода на романтическую бледность и худобу, хотя по природе он был склонен к тучности и сутулился, как многие английские аристократы. Над своим внешним обликом лорд трудился как скульптор. Сидел на диете, купался в ледяной воде, изнурял тело спортом и, конечно, пускался в дальние плавания. Типичная биография молодого человека, живущего в островном государстве. Всех тянуло вдаль, за моря. В 21 год уплыл сначала в Испанию, потом в Албанию, где подружился с турецким властителем Али-пашой. А затем проследовал в город своей судьбы, на родину красоты, которой всю жизнь поклонялся, - в Афины.
Греция была точкой схождения интересов двух империй: Британии и России. Все хотели освобождения христианской Греции от турецкого ига. Правда, в те времена многие турецкие обычаи вошли в греческий обиход, в том числе курение опиума и потребление гашиша. Достаточно вспомнить графа Монте-Кристо, находившего утешение в наркотическом дурмане. Но еще большим наркотиком стал только что открытый субъективный идеализм - или романтизм, которым упивался и сам Байрон, и все его окружение. Романтизм как полная внутренняя свобода, снятие всех оков.
Молодой Байрон влюбился в гречанку и воспел ее в стихах, называя не иначе как Афинской девой. Так древние греки именовали богиню Афину Палладу, ставшую символом все той же свободы. Он вернется в Англию через два года с автобиографической поэмой "Паломничество Чайльд Гарольда", которая принесет поэту всемирную и вечную славу. Прелесть этой поэмы мы чувствуем по отблеску ее в романе Пушкина "Евгений Онегин". Романтический, скучающий, ни в чем и нигде не находящий пристанища скиталец вышел на мировую арену. Чайльд Гарольд - первый космополит, человек мира, свободный от всех оков.
И сам Байрон, и его герой, и его гениальный друг поэт Шелли, и его великие последователи в России - Пушкин и Лермонтов - прежде всего свободные люди и, конечно, граждане мира. Онегин подражает Байрону не только внешне. Он действительно для государства неуловим. Все наши Онегины и Печорины - дети Чайльд Гарольда. Впрочем, Пушкину и не снилась та свобода, которая была у Байрона. Пушкин не мог без разрешения уехать из Петербурга, Байрон свободно путешествовал по всему миру. Пушкин мог делиться своими политическими идеями только с друзьями, Байрон свободно выступал в парламенте...
В Байрона влюбляется замужняя леди Каролина Лэм. Ни Байрон, ни Каролина не скрывают свою любовную близость, всячески ее демонстрируют. Общество бурлит, но ничего не может поделать с мятежным лордом. И вдруг - как гром с ясного неба - Лондон облетела новая весть: Байрон женится на родственнице своей возлюбленной. Брак с Анабеллой Милбенк заключен по всем правилам и скреплен обрядом венчания, что тоже стало сенсацией. Одновременно выходит цикл восточных поэм, где поэт явно намекает на свою связь с контрабандистами и пиратами, что, по всей видимости, не является романтической выдумкой. Байрон снабжает оружием восставших греков, а где оружие, там, ясное дело, и наркотики. А где наркотики, там... какие уж семейные узы.
Узнав о любовной связи Байрона с его же единокровной сестрой и справедливо заподозрив мужа в гомосексуальных играх, жена Байрона, мать его дочери, подает на развод. К тому же она потрясена необычными способами любви, которых добивался от нее великий поэт, пират, контрабандист, революционер, лорд и герой Джордж Гордон Байрон...
Известно, что при обильном потреблении наркотиков экстатические состояния сменяются тяжелейшими депрессиями. Последняя, четвертая часть "Чайльд Гарольда" - гимн тоске и отчаянию. Не менее трагична богоборческая драма "Манфред". Байрон разочаровался во всем: в Боге, в любви, в политике, в жизни как таковой.
Изменив свободолюбивой Греции, он уезжает в Италию, где осваивает все стадии донжуанства. Теперь это не античный красавец с греческим профилем, а толстеющий и лысеющий человек. Но замужняя графиня Тереза Гвиччиолли полюбила его и таким. В эту любовную интригу в качестве арбитра вовлечен даже папа римский. И конечно же и здесь Байрон включен в политическую игру. Он всячески поддерживает карбонариев в их борьбе за независимость Италии от Австрии. Заговор подавлен, и Байрон находит прибежище у своего друга и единомышленника Шелли. Друзья издают журнал "Либерал". Но Европа не созрела для либерализма. Журнал приказал долго жить.
А в личной жизни образуется магический четырехугольник: Перси Биш Шелли, его жена Мэри Шелли, Байрон и его фактическая жена Тереза. От этого "брака" родился впоследствии роман Мэри Шелли "Франкенштейн". Неожиданная гибель поэта Шелли в морских волнах разбивает демоническую идиллию. Байрон очнулся от дурмана и наконец-то закончил поэтическую феерию "Дон Жуан". Разумеется, герой испытал все то, что испытывал Байрон, - любовь в гареме, пресыщение, любовную идиллию на острове. Но литература вскоре надоедает Байрону, и он вслед за своим Дон Жуаном устремляется в самую горячую точку Европы, в любимую Грецию. Обратно в молодость.
Греки встречают великого лорда как полководца. Байрон на свои деньги снаряжает греческий флот, снабжает повстанцев и даже командует отрядом, но внезапная лихорадка обрывает его жизнь в 1824 году. Традиционный предел жизни поэтов - на рубеже 37 лет.
"Вольности поэтом" назовет его Пушкин. Но к Байрону это вряд ли применимо. Он никогда не был в рабстве и в вольности не нуждался. Он хотел не вольности, а свободы - для себя и для всего мира. Первую часть этого страстного желания он осуществил полностью и до конца.
Посилання видалено