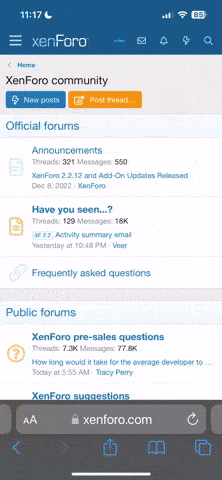ПАРИЖ. Империализм, писал Ленин сто лет назад, определяется пятью ключевыми характеристиками: концентрация производства; объединение финансового и промышленного капитала; вывоз капитала; транснациональные картели; и территориальное разделение мира между капиталистическими державами. До недавнего времени только большевики все еще находили это определение актуальным. Больше нет: характеристика Ленина кажется все более точной.
Несколько лет назад глобализация должна была ослабить рыночную власть и стимулировать конкуренцию. И надеялись, что большая экономическая взаимозависимость предотвратит международный конфликт. Если на них ссылались авторы начала двадцатого века, то это были Джозеф Шумпетер, экономист, который определил «творческое разрушение» как движущую силу прогресса, и британский государственный деятель Норман Энджелл, который утверждал, что экономическая взаимозависимость сделала милитаризм устаревшим. И все же мы вошли в мир экономических монополий и геополитического соперничества.
Первая проблема воплощена американскими техническими гигантами, но на самом деле она широко распространена. Согласно ОЭСР, концентрация рынка увеличилась в целом ряде секторов, как в США, так и в Европе; а Китай создает все более крупных поддерживаемых государством национальных чемпионов. Что касается геополитики, США, похоже, отказались от надежды на то, что интеграция Китая в мировую экономику приведет к его политической конвергенции с установившимся либеральным западным порядком. Как грубо выразил это вице-президент США Майк Пенс в своей речи в октябре 2018 года, Америка теперь рассматривает Китай как стратегического соперника в новую эпоху «конкуренции великих держав».
Экономическая концентрация и геополитическое соперничество фактически неразделимы.
...